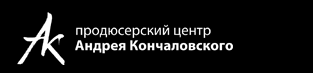"Три сестры" Андрея Кончаловского
Мои ощущения и впечатления после второго просмотра.
Спектакль на глазах совершенствуется как вполне живой организм, шлифуется, наращивает смыслы от того, что становится стройнее, целостнее. Я это очень хорошо чувствую, прежде всего, по роли Высоцкой, Маша которой, пожалуй, по замыслу и содержанию образа сложнее в исполнении, чем образы других двух сестер. Именно в связи с ролью Юли, какой я ее увидел после второй встречи со спектаклем, я вдруг взглянул на чеховскую троицу, в трактовке Кончаловского, как на некое единое в своем бытии существо.
Это существо - Женщина в трех возрастных ипостасях. В таком толковании образа много, я думаю, от замысла самого Чехова. В спектакле три возрастных ипостаси даны не в абстракции символа, а как три вполне конкретные, объемные фигуры в конкретных же социально-исторических, культурных и психологических условиях, пережитых и драматургом – с особой силой концентрации чувства к финалу собственной жизни. Поэтому, замечу в скобках, зритель вправе (и вполне естественно!) ожидать сейчас от режиссера обращения к «Вишневому саду». Тогда, я думаю, во всей своей полноте явится зрителю настоящий Чехов, поскольку он будет «до мозга костей» Чеховым Кончаловского.
А теперь о том, какой я увидел Женщину в трех ее ипостасях на сцене театра им. Моссовета.
Ирина. В спектакле она – дитя в период пробуждения половых инстинктов, как говорится, на пороге выбора спутника жизни, желанного и необходимого как опора Мужчины. Но выбор этот, воплощение ее жажды быть женщиной невозможны, поскольку витальные силы и потенции «белой» (по Кончаловскому) России исчерпаны. Исчерпана энергия той социально-психологической, культурной популяции, к которой принадлежат ВСЕ персонажи «Трех сестер», за исключением «шершавого животного» Наташи, пожирающей все вокруг (пластически очень точно показанной на сцене Вдовиной).
Наступает миг, когда Ирина готова стать Женщиной, готова жертвовать для своего Мужчины. Но мужчина фатально не готов эту жертву принять! Я имею в виду финал второго акта, когда Соленый начинает раздевать девушку, но вдруг останавливается и покидает сцену. И девушка подавлена не столько напором брутального самца Соленого (в брутальности которого больше все-таки маски, чем настоящего), сколько именно тем обстоятельством, что единственно в этой среде достойный ее (как она это воспринимает) самец отвергает ее как самку, как женщину.
Именно в этот момент она ясно (женским нутром, природой!) прозревает свою обреченность на судьбу, постигшую старшую ее сестру – старую деву Ольгу. Вот что катастрофически подавляет девушку! Она видит в перспективе их (трех сестер) существования тупик - обреченность остаться бесплодными старыми девами. Вне дома, вне семьи, вне жизни!
И как раз в этот момент набрасывается на нее «шершавое животное», чтобы поглотить ослабевшую, опустошенную самую молодую и, казалось до сих пор, полную жизни Ирину - поглотить ее комнату, а на самом деле, занимаемое ею жизненное пространство. Цель «шершавого животного» вытеснить «белых» из пространства их естественного существования.
Мне кажется, что только в таком развитии линии Ирины (и других сестер) может быть внятно поведение Соленого (у Кончаловского), демонстрирующего свою мужскую грубость, диковатость, неотесанность и силу и притом некую демоничность (похож на Лермонтова!). И все это только для того, чтобы прикрыть, задекорировать разрушение мужского (опорного, оплодотворяющего!) начала в сюжете «Трех сестер». Собственно, таковы здесь ВСЕ мужчины – они, как и сестры в своей женской, обречены на вымирание, разрушение, уничтожение в самой своей мужской природе. Соленый больше других, может быть, страдает от осознания своей «импотенции» (в символическом смысле). Но и больше других чувствует ужас близящейся катастрофы. Соленый – явственный сигнал этой катастрофы. Здесь он близок Кассандре-Чебутыкину («Мы не существем!», «Одним бароном меньше, одним бароном больше...»).
Вероятно, режиссера упрекнут в том, что в упомянутой сцене (как и в некоторых иных местах вещи) он чрезмерно акцентирует эротизм, отсутствующий, кажется, у Чехова. Такова, например, и заключительная сцена первого акта – дуэт Алексея Гришина и Натальи Вдовиной, когда Андрей Прозоров плотоядно набрасывается на Наташу, вроде жеребца на кобылу во время случки. А та и ведет себя как молодая кобылица, едва ли не ржет, но зримо бьет «копытом» - сучит ножкой.
И у Чехова, и у Кончаловского плодоносность Наташи настырна и агрессивна – заселение, отвоевывание пространства жизни (здесь есть что-то от «Елены» Звягинцева). Но трудно, во-первых, предположить, что ее плоды – от семени Прозорова. Во-вторых, зритель этих плодов не видит, а видит только коляску, которую таскает туда-сюда по сцене Андрей, а затем передает Ферапонту. Кто (или что) в этой коляске? Не «Розмари бэби» ли, дьявольское порождение «черной» Руси? Во всяком случае, мне это напоминает историю Таи из «Сибириады», которая пугает престарелого Спиридона Соломина сообщением, что в ее чреве созревает потомок Устюжаниных, вызвавших из родной земли пламя и пепел Страшного Суда.
Эротизм спектакля Кончаловского, на самом деле, антиэротизм. Поскольку в тех условиях, в которых разворачивается действие пьесы (год написания – 1900-й) и которые в прологе и в эпилоге вещи акцентирует режиссер, невозможно никакое оплодотворение этими мужчинами этих женщин. Как я уже говорил, их жизненный цикл исчерпан. Не зря же удивленному предложенным толкованием его роли (Вершинин) Домогарову режиссер напомнил, что недалек тот час, когда всех их (офицеров будущей белой армии) расстреляют. У них нет семейного, домашнего будущего. Они не могут стать отцами. Они и женщины, по-детски суетящиеся рядом с ними, обречены на бесплодие. Важно здесь и то, что у сестер нет ни отца, ни матери – они сироты. Наиболее существенно это сиротство как безотцовщина, иными словами, отсутствие мужского начала как оплодотворяющего для женщины и как опоры женщины. Сестры сироты – как Женщины.
Кончаловский фактически продолжает одну из главных тем своего предыдущего спектакля по Чехову – «Дяди Вани» (да и «Чайки», я думаю). Во всяком случае, это видно по тому, как развивают свои предыдущие, «дядиванинские» темы в «Сестрах» Вдовина, Деревянко, Домагаров, Высоцкая, другие.
Вернусь к Ирине. Она впадает в отчаяние, в истерику – до сумасшествия, когда тупик становится для нее внутренне очевидным: «Куда? Куда все ушло? Где оно? О боже мой, боже мой! Я все забыла, забыла... У меня перепуталось в голове... Все забываю, каждый день забываю, жизнь уходит и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву...»
Как за соломинку утопающий, хватается теперь Ирина за младенца Тузенбаха (Павел Деревянко развивает тему своего Войницкого из «Дяди Вани»), произносящего младенческие же, трогательно смешные речи о необходимости работать. Но Тузенбах обречен еще более, нежели все другие, по причине своего невинного слепого младенчества. Как только он сбрасывает с себя офицерский мундир (мужские доспехи!) и становится гражданским человеком он, фактически, надевает саван цивильного костюма. Маша вспоминает о «золотом веке» их жизни, когда «на именины приходило всякий раз по тридцать-сорок офицеров». Именно из той жизни и прибывает Вершинин, что важно. Ему Маша говорит, что «между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных», что она предпочитает военных.
Гибель Тузенбаха подводит жирную черту под надеждами Ирины. Образно говоря, чемодан, который они собирали вдвоем, захлопнут, как гроб, навеки. От него - после ухода персонажа со сцены - остается только тонкий, ненадежный запах кофе – реальный аромат только что приготовленного напитка, чашечку которого выносят на сцену и запах которого хорошо чувствует зритель. Это запах навсегда канувшего в Лету прошлого.
И тут нельзя не вспомнить появившийся в самом начале спектакля фрагмент письма из России в Париж – писанного в 1924 году: «Как давно это было...» Текст, возникающий на экране под хорошо слышное шуршание пера по бумаге, рождает сложное чувство в зрителе. С одной стороны, я переживаю иллюзию присутствия невидимого автора письма: экранный текст будто возникает под его рукой, слышимо и зримо. С другой стороны, мне внятна невозвратимость той, канувшей эпохи, призраки которой сейчас возникнут передо мной. И они возникают! Три сестры на качелях, подвешанных где-то в вечности, в поднебесье, куда и устремляются, где и растворяются цветы, вырвавшиеся из их рук.
Ирина – это предчувствие Ольги.
Ольга, в исполнении замечательной актрисы-эксцентрика Ларисы Кузнецовой, находится в состоянии какого-то нервического перевозбуждения едва ли не на протяжении всего спектакля. Я имею в виду, прежде всего, пластический рисунок роли, жест, интонации ее реплик. Поначалу эта экзальтация кажется неестественной. Она и на самом деле искусственна, если смотреть на нее с бытовой точки зрения. Но сестры давно выбиты из неспешного, вязкого течения бытовой жизни. Ольга острее других ощущает близость конца, настолько остро, что она уже, похоже, смирилась с этой судьбой. Но вместе с тем в своей экзальтированной приподнятости хочет скрыться от того ужаса, который охватывает ее. Именно ей принадлежат чудовищная финальная реплика о «веселой и бодрой музыке», которая, на самом деле, есть погребальное сопровождение, реплика о том, как хочется жить, когда все движется к неотвратимому концу. И все это перекрывается отчаянным возгласом последней надежды: «Если бы знать...»
И для Ольги появление кукольного (до четвертого, во всяком случае, акта) Вершинина – робкая надежда на спасение, надежда на прекращение ее безмужнего существования (ей 28 лет!). Иллюзии на этот счет скоро прекращаются.
Наконец, Маша. Почему эта роль самая сложная из всех женских ролей пьесы? Возраст Маши серединный, серединное и ее состояние. Она уже пережила крах молодых (подобных Ирининым) надежд, и строить иллюзии на этот счет не может. С самого начала пьесы она «в мерлехлюндии», ей «невесело». Но она хорошо видит и свое будущее – в Ольге. И глубоко ужасается его. Она больше своих сестер знает о том, что с ними происходит. Она лучше их видит свое окружение: маску Соленого («ужасно страшный человек»), агрессивную жадность Наташи и проч.
Надежду в нее вселяет Вершинин, как ни странно, своей репликой о «невообразимо прекрасной, изумительной» жизни через двести, триста лет, к которой нужно готовиться и в которой все умения и таланты сестер не будут лишними. Поэтому линия Маши – пограничная, на границе ипостасей Ольги и Ирины, на границе времен и пространств: призрачной Москвы и грядущей катастрофы. Она уже не здорова, как Ирина, но еще и не отравлена окончательно, как Ольга. Однако ж, она больна. И Кончаловский вводит характеристику, отсутствующую у Чехова, но хорошо Антону Павловичу знакомую – чахоточный кашель молодой женщины. Выздоровление – в мужчине, в Вершинине! И вот в финале четвертого акта она выходит готовая покинуть этот неуютный и уже, фактически, поглощенный Наташей дом, выходит с саквояжем и какой-то дорожной одеждой. Она-то готова – у нее нет другого выхода. Но не готов Вершинин!
И дело тут не в семье – в сумасшедшей жене и дочках, о которых он то и дело поминает. Он поминает о них так часто, что возникает уверенность в том, что их – нет, что это миф, который, может быть, он и сам хотел бы сделать реальностью, но не в состоянии. Он лишен потенции сделать реальностью дом, семью, как лишены ее и все другие мужчины, появляющиеся на сцене.
Когда Маша понимает, что Вершинин (последняя опора!) не готов, из ее больной груди вырывается страшный, дикий крик. И этот крик трудно выдержать зрителю без внутреннего содрогания. Перед этим женщина цепляется за ноги мужчины, почти волочится за ним, когда он пытается уйти. Этой мизансцены, кажется, нет у Чехова. Но у него есть реплика Вершинина, которая именно так позволяет решить сцену: «Пиши мне... Не забывай! Пусти меня... пора... Ольга Сергеевна, возьмите ее, мне уже... пора... опоздал...».
Да, женщины не отпускают своих мужчин. Но удержать их невозможно – так распоряжается их судьбами время: они уходят в смерть, поэтому и не в состоянии быть опорой.
Вся роль Высоцкой есть, по сути, подготовка сцены прощания и того душераздирающего крика, с которым, кажется, ее оставляет душа. Нельзя не вспомнить завершающую реплику ее Сони из «Дяди Вани». А такое видение и ведение роли требует, на мой взгляд, страшного и физического, и душевного напряжения от актрисы наряду с тем напряжением, которое порождает необходимость удерживать единство образа Сестер. Вот этот груз (роль Маши), который возложил на Юлю режиссер, делает ее игру, что называется, на разрыв аорты, по-настоящему героической. Отсюда – и возможные сбои в премьерных спектаклях. Скажу больше: это опасная роль, если делать ее взаправду и до конца, который предполагает трактовка, предложенная режиссером.
И в первый, и во второй просмотр успел отметить про себя реакцию зрителей на эпилог. Он потрясает до шокового состояния. Удар наотмашь, под дых, как некогда выразился сам Кончаловский по поводу своих впечатлений от фильмов «Летят журавли» и «Пепел и алмаз».
Эпилог – это убийственно беспощадный ответ на робкую надежду и желание Ольги: «Если бы знать...» Вот и знай! И ужаснись!
Но это и ответ зрителю! Мы получаем в ответ на наши слепые исторические «эксперименты» или адское пламя в финале «Сибирады», или крысиную агрессию в «Щелкунчике», или склеп для «белой» России в «Сестрах». Режиссер настойчиво, еще и еще раз возвращает нас к тому зерну, из которого проросла историко-культурная катастрофа нации: «Знайте! Ужаснитесь сами себе!»